Читать онлайн «Русский путь. Вектор, программа, враги», Сергей Кара-Мурза – Литрес
«Шестидесятники»
Как сказал Г. Плеханов, «нет ни одного исторического факта, которому не предшествовало бы, которого не сопровождало бы и за которым не следовало бы известное состояние сознания».
Политическое действие, которое приводит к какому-то сдвигу в общественных отношениях, – это «исторический факт». Это действие невозможно, если ему не предшествует соответствующее изменение в сознании группы людей. Вся история показала, что это условие является абсолютным. Многие философы утверждают это в разных выражениях. Как подчеркивал один из ведущих социологов современности П. Бурдье, «политический бунт предполагает бунт когнитивный, переворот в видении мира».
Когнитивный бунт – это перестройка мышления, языка, «повестки дня» и логики объяснения социальной действительности. Само по себе недовольство этой действительностью к «политическому бунту» не ведет. Например, в настоящий момент большинство населения России не просто недовольны реальностью, но испытывают страдания. В 2011 г. Институт социологии РАН опубликовал большой доклад, подводящий итоги исследований восприятия реформы в массовом сознании – с начала реформ до настоящего момента. Большой раздел посвящен «социальному самочувствию» граждан, то есть состоянию их духовной сферы.
В 2011 г. Институт социологии РАН опубликовал большой доклад, подводящий итоги исследований восприятия реформы в массовом сознании – с начала реформ до настоящего момента. Большой раздел посвящен «социальному самочувствию» граждан, то есть состоянию их духовной сферы.
В докладе сказано: «Рассмотрим ситуацию с негативно окрашенными чувствами и начнем с самого распространенного по частоте его переживания чувства несправедливости всего происходящего вокруг. Это чувство, свидетельствующее о нелегитимности в глазах россиян самого миропорядка, сложившегося в России, испытывало в апреле 2011 г. хотя бы иногда подавляющее большинство всех россиян (свыше 90 %), при этом 46 % испытывали его часто. На фоне остальных негативно окрашенных эмоций чувство несправедливости происходящего выделяется достаточно заметно, и не только своей относительно большей распространенностью, но и очень маленькой и весьма устойчивой долей тех, кто не испытывал соответствующего чувства никогда – весь период наблюдений этот показатель находится в диапазоне 7—10 %.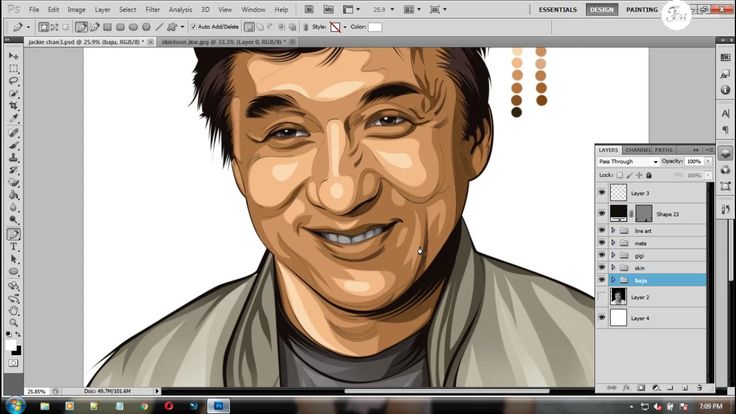 Это свидетельствует не просто о сохраняющейся нелегитимности сложившейся в России системы общественных отношений в глазах ее граждан, но даже делегитимизации власти в глазах значительной части наших сограждан, идущей в последние годы» [1].
Это свидетельствует не просто о сохраняющейся нелегитимности сложившейся в России системы общественных отношений в глазах ее граждан, но даже делегитимизации власти в глазах значительной части наших сограждан, идущей в последние годы» [1].
Почему же у массы страдающих людей не возникает попытки организоваться, чтобы совместно разобраться в причинах своей беды и вариантах действий для того, чтобы воздействовать на социальную действительность с целью ликвидации или хотя бы ослабления этих причин? Потому, что их когнитивная структура, т. е. весь инструментарий их мышления и «видения мира», сформированный в 1990-е гг., не изменился. После 2000 г. он совершенствовался всеми средствами, которыми располагали власть имущие, и сегодня охраняется средствами воздействия на массовое сознание. Пока что для этого достаточны экономические и культурные средства, сила применяется в небольших порциях. Признаков когнитивного бунта пока нет, процесс обновления инструментов мышления требует времени и усилий всех социокультурных групп и, прежде всего, интеллигенции.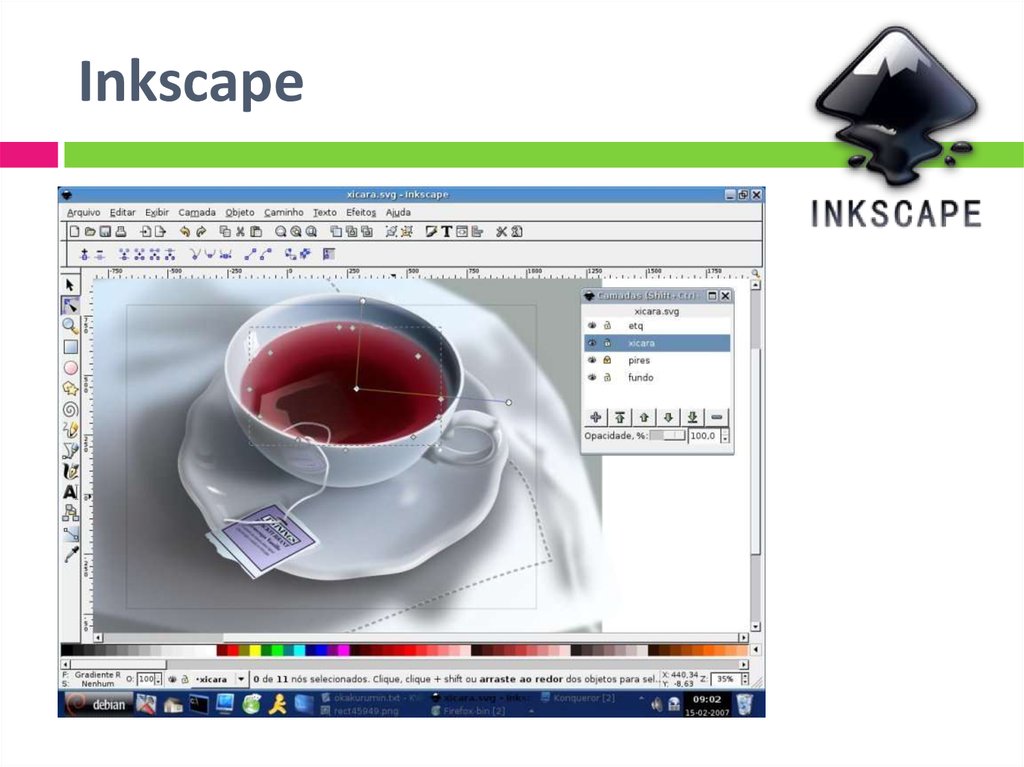
Одно из необходимых усилий – изучение уроков истории, и прежде всего истории близкой, лучше всего отечественной, которая творилась на нашей культурной почве. Здесь нам очень повезло – мы пережили катастрофу крушения советского строя (те, кому за 35). «Чем эпоха интересней для историка, тем для современников печальней». Как же был подготовлен тот когнитивный бунт, который обернулся тяжелейшим ударом по жизни большинства нашего населения? Кто и как подготовил то «известное состояние сознания», в котором люди равнодушно, или даже аплодируя, отдали свое национальное достояние ничтожному меньшинству, которое ничем его не заслужило?
Как известно, во время перестройки верхушка КПСС с помощью идеологической машины и используя «недоброжелательное инакомыслие» большой части интеллигенции, сумела разрушить ту «мировоззренческую матрицу», которая служила основой легитимности советского общественного строя и его политической системы (СССР). Для этого не требовалось, чтобы большинство населения заняло антисоветскую позицию, было достаточно, чтобы в массовом сознании иссякло активное благожелательное согласие на существование СССР. Если население поддерживает политическую систему пассивно, то организованные заинтересованные силы способны сменить социальный строй и политическую систему. А такие силы имелись и в стране, и за ее рубежами.
Если население поддерживает политическую систему пассивно, то организованные заинтересованные силы способны сменить социальный строй и политическую систему. А такие силы имелись и в стране, и за ее рубежами.
Сдвиг интеллигенции к идее перестройки экономики и перехода к частному предпринимательству происходил быстро и вопреки установкам основной массы населения. Это отражено в большом докладе ВЦИОМ под ред. Ю. Левады «Есть мнение» (1990 г.) [110]. В общем, вывод авторов книги таков: «Носителями радикально-перестроечных идей, ведущих к установлению рыночных отношений, являются по преимуществу представители молодой технической и инженерно-экономической интеллигенции, студенчество, молодые работники аппарата и работники науки и культуры» [110, с. 83].
Мы не можем сказать, какая доля интеллигенции была «носителями радикально-перестроечных идей», но можем утверждать, что эта часть была достаточна, чтобы подготовить и осуществить «когнитивный бунт, переворот в видении мира», необходимый для «политического бунта» 1991 г.![]() Критическая масса интеллигенции обладала разнообразием, квалификацией и влиянием, чтобы выполнить свою миссию по подрыву легитимности СССР. Остальное было делом техники для партийно-государственной верхушки и ее внешних союзников.
Критическая масса интеллигенции обладала разнообразием, квалификацией и влиянием, чтобы выполнить свою миссию по подрыву легитимности СССР. Остальное было делом техники для партийно-государственной верхушки и ее внешних союзников.
Здесь мы не будем рассматривать структуру элиты советской интеллигенции, которая стала авангардом перестройки. Это большая тема, и ее сначала надо «переварить» по частям. Отмечу только, что все части этого авангарда выполняли важные функции, как разные рода войск в большой операции. Некоторые авторы выделяют ту или иную функцию как решающую[1]. Но, скорее, победа была достигнута именно благодаря системности воздействия на сознание населения.
В принципе, более чем за полвека до перестройки Антонио Грамши весьма точно предсказал, какими средствами воздействия на сознание интеллигенция укрепляет или разрушает легитимность общественного строя (он использовал понятие культурной гегемонии). Но в наше время примерно о том же пишут современные культурологи и социологи, очевидцы и участники разрушения СССР. Отвлечемся от того, ликовали они при этом или страдали. Они оставили важные наблюдения.
Отвлечемся от того, ликовали они при этом или страдали. Они оставили важные наблюдения.
Г.С. Батыгин дает такое общее определение: «Интеллектуалы и публицисты артикулируют и обеспечивают трансмиссию “социального мифа”: идеологий, норм морали и права, картин прошлого и будущего. Они устанавливают критерии селекции справедливого и несправедливого, достойного и недостойного, определяют представления о жизненном успехе и благосостоянии, сакральном и профанном. Любая тирания уверенно смотрит в будущее, если пользуется поддержкой интеллектуалов, использующих для этого образование, массовую информацию, религию и науку. Но, если альянс власти и интеллектуалов нарушен, происходит кризис легитимности и реформирование системы…
Причины социальных трансформаций обычно усматриваются в противостоянии власти и народа. Принято ассоциировать “тоталитарную власть” с силами зла и репрессии, а “народ”, по определению, воплощает начала добродетели и справедливости. Вероятно, эта точка зрения основана на мистификации “власти” и “народа” и не объясняет кризисы легитимности, которые возникают внутри институтов власти и лишь затем мобилизуют “народные” социальные движения.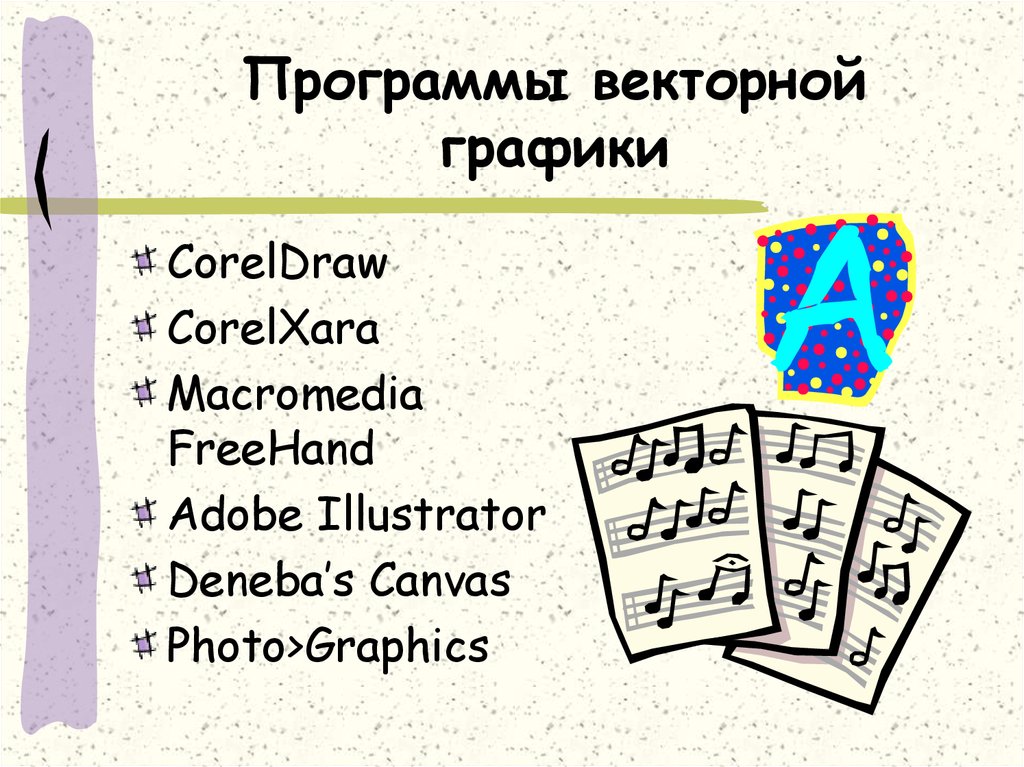 Не исключено, что кризис легитимности коммунистического и посткоммунистического режимов в России связан преимущественно с позиционным конфликтом в дискурсивном сообществе, “новом классе”, который был классом пришедших к власти людей “литературного сословия” (ordo literatorum), идеократии, и участвовал в конституировании социальных порядков до конца 1980-х гг., когда альянс власти и интеллектуалов был разрушен» [3, с. 45][2].
Не исключено, что кризис легитимности коммунистического и посткоммунистического режимов в России связан преимущественно с позиционным конфликтом в дискурсивном сообществе, “новом классе”, который был классом пришедших к власти людей “литературного сословия” (ordo literatorum), идеократии, и участвовал в конституировании социальных порядков до конца 1980-х гг., когда альянс власти и интеллектуалов был разрушен» [3, с. 45][2].
Примерно так же видит главную суть столкновения перестройки и «бархатных» революций П. Бурдье. Он пишет: «Все заставляет предположить, что в действительности в основе изменений, случившихся недавно в России и других социалистических странах, лежит противостояние между держателями политического капитала в первом, а особенно во втором поколении, и держателями образовательного капитала, технократами и, главным образом, научными работниками или интеллектуалами, которые отчасти сами вышли из семей политической номенклатуры» (см. [4]).
Здесь, помимо того что указывается на роль интеллектуалов в выполнении основного объема работы по делегитимации советского строя, предлагается гипотеза о критическом значении элиты гуманитарной интеллигенции – той части «литературного сословия», которая стала уже сама частью власти. Речь идет не о чиновниках, а о руководителях СМИ, учреждений культуры и общественных наук, влиятельных советниках высшего эшелона партийной и государственной власти.
Речь идет не о чиновниках, а о руководителях СМИ, учреждений культуры и общественных наук, влиятельных советниках высшего эшелона партийной и государственной власти.
Один из ведущих советских марксистов и социологов Б.А. Грушин, в 1960-е гг. работавший в Праге в редакции журнала «Проблемы мира и социализма»[3], писал в воспоминаниях: «Когда я вернулся из Праги, то обнаружил, что многие мои приятели по журналу (Амбарцумов, Арбатов, Жилин, Загладин, Фролов) пошли в большую политику. Из нашего круга, по-видимому, лишь мы с Мерабом (а потом Араб-Оглы) не сделали этого. И просто потому, что, как сказал однажды Мераб, мы никогда не были “шестидесятниками”, “родились немного раньше” и “никогда не участвовали в чужих войнах, ведя свои”» [10].
Упомянутый здесь Мераб Константинович Мамардашвили, который в кругах либеральной интеллигенции считается крупнейшим советским философом и который работал в Праге в редакции этого журнала в 1961–1966 гг., говорил в интервью в 1988 г.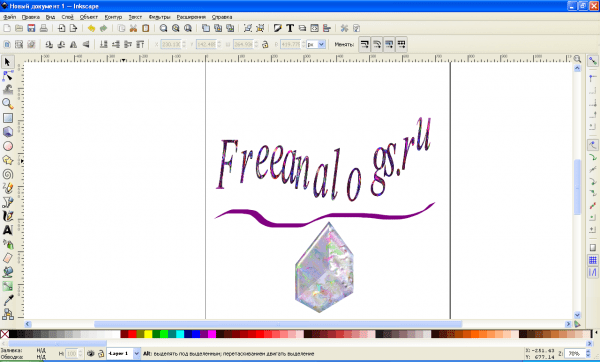 : «Вскоре после 1956 г. можно было наблюдать сразу на многих идеологических постах появление совершенно новой, так сказать, плеяды людей, в то время сравнительно молодых, которые отличались прогрессивным умонастроением и определенными интеллигентными качествами. Ну, скажем, там были такие люди, как Вадим Загладин, Георгий Арбатов – это мои бывшие коллеги по Праге начала 60-х гг. Борис Грушин, Юрий Карякин, Геннадий Герасимов… Иван Фролов, Георгий Шахназаров, Евгений Амбарцумов. И всю эту плеяду людей собрал в свое время Румянцев Алексей Матвеевич. В последующем редактор “Правды”, а потом вице-президент Академии наук.
: «Вскоре после 1956 г. можно было наблюдать сразу на многих идеологических постах появление совершенно новой, так сказать, плеяды людей, в то время сравнительно молодых, которые отличались прогрессивным умонастроением и определенными интеллигентными качествами. Ну, скажем, там были такие люди, как Вадим Загладин, Георгий Арбатов – это мои бывшие коллеги по Праге начала 60-х гг. Борис Грушин, Юрий Карякин, Геннадий Герасимов… Иван Фролов, Георгий Шахназаров, Евгений Амбарцумов. И всю эту плеяду людей собрал в свое время Румянцев Алексей Матвеевич. В последующем редактор “Правды”, а потом вице-президент Академии наук.
Многие из них – после Праги – пошли на важные идеологические посты. Возвращаясь, они практически все … пополняли и расширяли так называемую интеллектуальную команду в политике и идеологии… Очевидно, все они участвуют сегодня в написании политических и других текстов в аппарате ЦК… Большинство из них ко времени Горбачева оставалось на своих постах. Они служили» [11][4].
Таким образом, в процессе перестройки, приведшей к краху СССР, нет и следа «народной революции» или тяжелого экономического кризиса, который бы толкнул трудящиеся массы на баррикады. Кризис был создан самой властью «новой формации», начавшей демонтаж советской хозяйственной системы в 1988 г., а годом позже – и политической системы.
Г.С. Батыгин указывает на этот важный факт: «Ни “крестьянские войны” и голод в деревне, ни массовые репрессии, ни низкий уровень жизни не поставили под вопрос существование коммунистического режима. Его крах стал следствием разрушения “социальной теории” и конфликта в дискурсивном сообществе в относительно стабильных политических и экономических обстоятельствах. Он был предуготовлен движением “шестидесятников” и вступил в критическую фазу в период “плюрализма мнений”, обозначенного атакой “докторальной публицистики”, которая стала играть роль альтернативного мозгового центра страны. Атака исходила от идеологических изданий, в числе которых был и теоретический орган ЦК КПСС журнал “Коммунист”. Реформирование “социальной теории” осуществлялось публицистами перестройки путем форсирования моральных требований правды, справедливости, подлинной демократии и свободы» [3, с. 58].
Реформирование “социальной теории” осуществлялось публицистами перестройки путем форсирования моральных требований правды, справедливости, подлинной демократии и свободы» [3, с. 58].
Здесь – важная и четкая формулировка того факта, на который в разных формах указывали многие авторы: крах СССР «предуготовлен движением “шестидесятников”». Но «шестидесятники» – это особая общность элитарных советских интеллигентов, принадлежащая к конкретному поколению. Оно сформировалось во второй половине 1950-х гг., во время «оттепели» Хрущева. Г. Павловский писал так: «Небольшая прослойка оппозиционно настроенной интеллигенции, условно именуемая “шестидесятниками”».
Элитарность этой прослойки определялась не социальным происхождением, а уровнем образования. Советские интеллигенты к 1950-м гг. осознали себя «благородным сословием», ответственным за судьбы России. Один из высших авторитетов советской философии М.К. Мамардашвили так описал типичный портрет шестидесятника в его развитии: «Нормальный опыт людей моего поколения, связанного с идеологией, такой жизненный путь, точкой отсчета которого были марксизм или социализм и вера в идеалы марксизма и социализма… И все они проходили этот путь, следуя той системе представлений и образов, что были завещаны революцией…
Значит, тот, кто проходил этот путь, осознавал себя, в отличие от консерваторов и догматиков, в терминах… порядочности и интеллигентской совести. И когда наступила хрущевская “оттепель”, то это было, конечно, их время. Для них это была эпоха интенсивной внутренней работы, размышлений над основами социализма, попыткой изобретения новых концепций, которые исправили бы его искажения и т. д. Например, они активно включились в разработку известной хрущевской программы о приближении коммунизма. Были буквально вдохновлены ею… Многие этим занимались. Появились такого рода люди в ЦК, в виде советников и референтов, в издательствах, газетах и т. д. Причем часто на ключевых позициях» [11][5].
И когда наступила хрущевская “оттепель”, то это было, конечно, их время. Для них это была эпоха интенсивной внутренней работы, размышлений над основами социализма, попыткой изобретения новых концепций, которые исправили бы его искажения и т. д. Например, они активно включились в разработку известной хрущевской программы о приближении коммунизма. Были буквально вдохновлены ею… Многие этим занимались. Появились такого рода люди в ЦК, в виде советников и референтов, в издательствах, газетах и т. д. Причем часто на ключевых позициях» [11][5].
А.Н. Яковлев писал в 2001 г.: «После XX съезда в сверхузком кругу своих ближайших друзей и единомышленников мы часто обсуждали проблемы демократизации страны и общества. Избрали простой, как кувалда, метод пропаганды “идей” позднего Ленина. Надо было ясно, четко и внятно вычленить феномен большевизма, отделив его от марксизма прошлого века. А потому без устали говорили о “гениальности” позднего Ленина, о необходимости возврата к ленинскому “плану строительства социализма” через кооперацию, через государственный капитализм и т.![]() д.
д.
Группа истинных, а не мнимых реформаторов разработала (разумеется, устно) следующий план: авторитетом Ленина ударить по Сталину, по сталинизму. А затем, в случае успеха, Плехаюновым и социал-демократией бить по Ленину либерализмом и “нравственным социализмом” – по революционаризму вообще» [44, с. 14].
Часть шестидесятников почти сразу сдвинулась к открытому инакомыслию, критическому по отношению к политической системе СССР – они стали диссидентами. Каковы масштабы этой прослойки, можно судить по оценкам самих участников протестов, которые вели исторические изыскания: «С 1965 г. в петициях, заявлениях, протестах приняло участие, по грубой оценке, около 1500 человек, в основном научная и творческая интеллигенция» (оценки Богораз Л. и др., 1991).
Тем не менее, директор Центра независимых социологических исследований (ЦНСИ) В.М. Воронков (сам поучаствовавший в «мягком» диссидентстве) пишет о шестидесятниках: «Это поколение, ставшее поставщиком ресурсов для движения протеста, сыграло решающую роль в подготовке революционных изменений в обществе, которые произошли три десятилетия спустя» [5].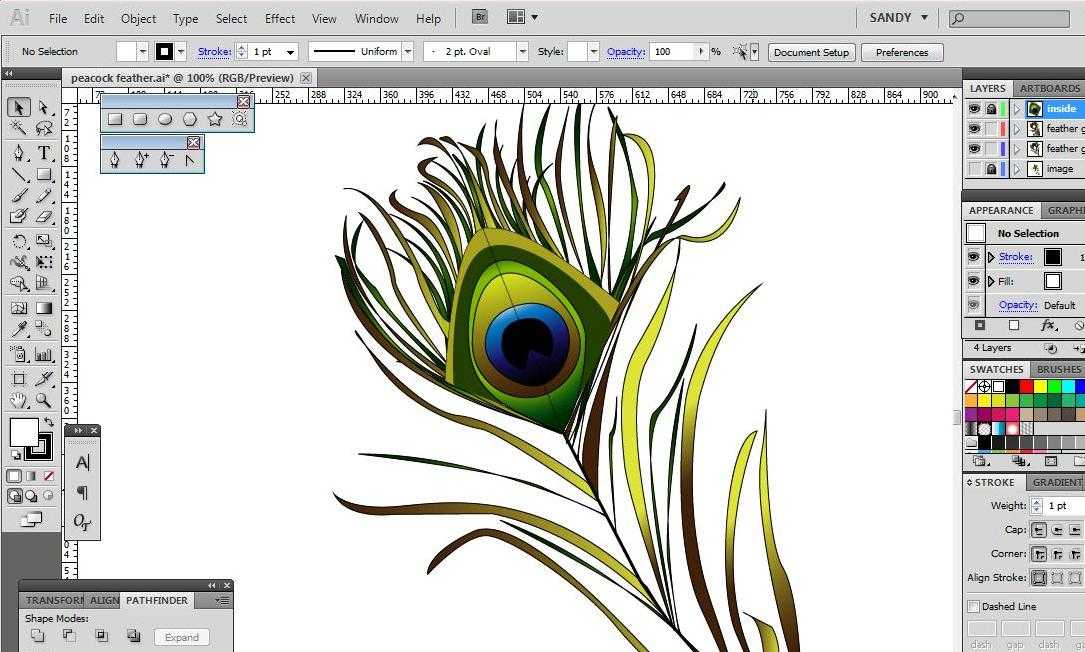 Численность – не главный фактор. Шестидесятники были «дрожжами», и в период мировоззренческого кризиса советского общества (1960–1990 гг.) снабжали дезориентированных этим кризисом людей идеями, языком, песнями и анекдотами.
Численность – не главный фактор. Шестидесятники были «дрожжами», и в период мировоззренческого кризиса советского общества (1960–1990 гг.) снабжали дезориентированных этим кризисом людей идеями, языком, песнями и анекдотами.
Люди старшего поколения помнят еще «самиздат» – издание идеологической продукции диссидентов. Но его влияние нельзя верно оценить, если не учесть, что почти все его материалы к тому же зачитывались по радио, а «голоса» слушала значительная часть интеллигенции. В СССР индустрия «самиздата» расцвела в 1960-е гг., и к 1975 г. ЦРУ разными способами участвовало в издании на русском языке более чем 1500 книг русских и советских авторов. В «точке бифуркации», в ситуации неустойчивого равновесия, диссиденты очень помогли антисоветским силам толкнуть процесс к гибели СССР (подробнее см. [6]).
В 1960-е гг. общность шестидесятников разделилась: одна ее часть, количественно небольшая, стала «диссидентами», начав открытую борьбу (в сфере сознания) с политической системой СССР, другая часть стала делать карьеру внутри политической системы, сращиваясь с властью. Ведущие институты Секции общественных наук АН СССР в лице их ведущих сотрудников были напрямую связаны с ЦК КПСС. А.Н. Яковлев вспоминал о своей работе директором Института мировой экономики и международных отношений АН СССР (ИМЭМО): «Практически институт считался как бы научно-исследовательской базой ЦК, выполнял разные поручения, готовил десятки справок (например, работники международного отдела ЦК очень любили перекладывать собственную работу на институты). Институтские ученые часто привлекались к подготовке выступлений и докладов для высшего начальства, что считалось “большим доверием”. А те, кому “доверяли”, были людьми, как правило, с юмором. Когда начальство произносило “свой” текст, его авторы садились у телевизора и комментировали это театральное представление: «А вот этот кусок мой”, “А вот эту чушь ты придумал”, “А теперь меня читает”. Смеялись. А на самом-то деле на глазах творился постыдный спектакль абсурда» [39, с. 380].
Ведущие институты Секции общественных наук АН СССР в лице их ведущих сотрудников были напрямую связаны с ЦК КПСС. А.Н. Яковлев вспоминал о своей работе директором Института мировой экономики и международных отношений АН СССР (ИМЭМО): «Практически институт считался как бы научно-исследовательской базой ЦК, выполнял разные поручения, готовил десятки справок (например, работники международного отдела ЦК очень любили перекладывать собственную работу на институты). Институтские ученые часто привлекались к подготовке выступлений и докладов для высшего начальства, что считалось “большим доверием”. А те, кому “доверяли”, были людьми, как правило, с юмором. Когда начальство произносило “свой” текст, его авторы садились у телевизора и комментировали это театральное представление: «А вот этот кусок мой”, “А вот эту чушь ты придумал”, “А теперь меня читает”. Смеялись. А на самом-то деле на глазах творился постыдный спектакль абсурда» [39, с. 380].
Я бы сказал, тут проявилось не чувство юмора, а ressentiment.
В 1970-е гг. произошло размежевание шестидесятников с «почвенниками». В некоторой мере эти части воссоединились в ходе перестройки и образовали «интеллектуальную элиту» антисоветского режима, который установился в России.
Строго говоря, эта социокультурная группа уже в преддверии перестройки оторвалась от той общности, которую обозначали термином «русская интеллигенция». Перестройка и реформа (а точнее, мировоззренческий кризис с 1960-х гг.) изменили ценностную платформу этой «элиты», устранив из нее те нравственные ценности, которые и были отличительным признаком интеллигенции.
Вспомним историю самого понятия «интеллигенция». О.К. Степанова пишет об этом: «Интеллигенция… В нашей стране названное понятие было “запущено” еще в 70-е годы XIX в. популярным в то время писателем П. Боборыкиным… Понятие интеллигенции тогда и некоторое время спустя в России имело совершенно четкую духовно-политическую атрибутику – просоциалистические взгляды. Этот ее признак в начале XX в. для многих был еще достаточно очевиден… В межреволюционный период вопрос о судьбе интеллигенции ставился в зависимость от ее отношения к капитализму: критическое – сохраняло ее как общественный феномен, а лояльно-апологетическое – уничтожало. А вот сегодня отношение к социальной проблематике практически не упоминается среди возможных критериев принадлежности к интеллигенции» [7].
для многих был еще достаточно очевиден… В межреволюционный период вопрос о судьбе интеллигенции ставился в зависимость от ее отношения к капитализму: критическое – сохраняло ее как общественный феномен, а лояльно-апологетическое – уничтожало. А вот сегодня отношение к социальной проблематике практически не упоминается среди возможных критериев принадлежности к интеллигенции» [7].
Пока неясно, может ли сохраниться при таком повороте сам феномен русской интеллигенции. Н. Бердяев считал критерием отнесения к интеллигенции «увлеченность идеями и готовность во имя своих идей на тюрьму, на каторгу, на казнь», при этом речь шла о таких идеях, где «правда-истина будет соединена с правдой-справедливостью». Если так, то статус интеллигенции сразу теряет та часть образованного слоя, которая в конце 1980-х гг. отвергла ценность справедливости и заняла лояльно-апологетическую позицию в отношении капитализма (причем даже не «окультуренного» европейского, а «реального» российского). Эту позицию заняла очень существенная часть, особенно в элитарных группах гуманитарной интеллигенции.
О.К. Степанова продолжает, уже конкретно относясь к интеллигенции периода после 1990 г.: «Антитезой “интеллигенции” в контексте оценки взаимоотношения личности и мира идей, в том числе – идей о лучшем социальном устройстве, являлось понятие “мещанство”. Об этом прямо писал П. Милюков [в “Вехах”]: “Интеллигенция, безусловно, отрицает мещанство; мещанство, безусловно, исключает интеллигенцию”…
Интеллигенция в России появилась как итог социально-религиозных исканий, как протест против ослабления связи видимой реальности с идеальным миром, который для части людей ощущался как ничуть не меньшая реальность. Она стремилась, во что бы то ни стало избежать полного втягивания страны в зону абсолютного господства “золотого тельца”, ведущего к отказу от духовных приоритетов. Под лозунгами социализма, став на сторону большевиков, она создала, в конечном итоге, парадоксальную концепцию противостояния неокрестьянского традиционализма в форме “пролетарского государства” – капиталистическому модернизму» [7].
Посвятив себя «втягиванию страны в зону абсолютного господства золотого тельца», элитарная часть той общности, которую обозначали словом «интеллигенция», совершила радикальный разрыв с этой общностью, что привело к ее дезинтеграции – «трудовая интеллигенция» пока что в новую общность собраться не может. Более того, «либеральная интеллигенция» в большинстве своем встроилась в новые общности «победителей» как идеологи, предприниматели, эксперты и управленцы. Они были интеллектуальным авангардом антисоветских сил и имеют право на свою долю трофеев.
В настоящее время многие идеологи антисоветских движений открещиваются от своего участия в том мародерстве, который учинили в стране победители «демократической революции». Например, В.М. Воронков пишет: «В период перестройки на сцену выходят новые поколения. По мере радикализации движения роль “шестидесятников” постепенно уменьшается. И, во всяком случае, уже не они воспользовались плодами революции…» [5].
Что роль шестидесятников во время перестройки уменьшилась – не отвечает действительности.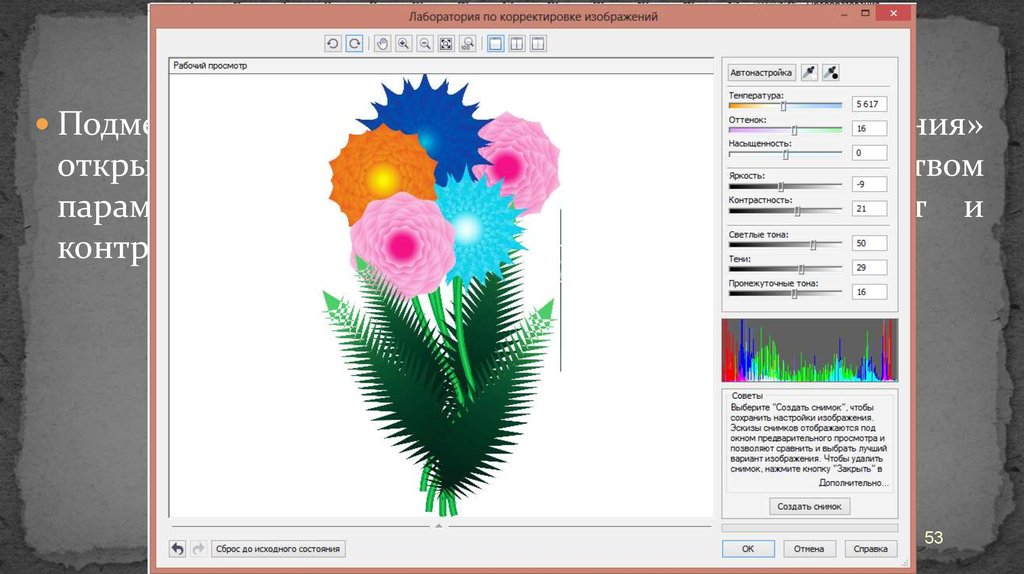 Практически вся интеллектуальная команда М. Горбачева и половина команды Б. Ельцина – из этой общности. Что шестидесятники и диссиденты не воспользовались плодами революции – мало кого волнует в России на фоне катастрофы. Да ведь это и неправда – большинство их очень даже воспользовались!
Практически вся интеллектуальная команда М. Горбачева и половина команды Б. Ельцина – из этой общности. Что шестидесятники и диссиденты не воспользовались плодами революции – мало кого волнует в России на фоне катастрофы. Да ведь это и неправда – большинство их очень даже воспользовались!
Зачем далеко ходить – сам В.М. Воронков всего-то занимался самиздатом и был осужден на 2 года условно, работал рядовым научным сотрудником в АН СССР, но как изменился его статус с победой революционеров! Он рассказывает в интервью: «В 1988 г. мы с единомышленниками организовали секцию исследований общественного движения при социологической ассоциации. А спустя два года я создал собственный институт. С тех пор я чувствую, что реализовал свою мечту о свободе» [8].
Создал собственный институт! Это, мол, при демократии каждому доступно, а не только бывшему диссиденту. На сайте этого института (ЦНСИ), расположенного в Санкт-Петербурге, читаем, на какие деньги создаются такие институты: «[В 1993 г. ] благодаря кредитной помощи зарубежных коллег Центр стал собственником переоборудованной в офис четырехкомнатной жилой квартиры… В течение ряда лет ЦНСИ энергично развивался, получал все больше грантов от зарубежных фондов… С 2000 г. начинается третий этап развития Центра, что связано, прежде всего, с выделением Фондом Форда гранта на покупку нового помещения для ЦНСИ.
] благодаря кредитной помощи зарубежных коллег Центр стал собственником переоборудованной в офис четырехкомнатной жилой квартиры… В течение ряда лет ЦНСИ энергично развивался, получал все больше грантов от зарубежных фондов… С 2000 г. начинается третий этап развития Центра, что связано, прежде всего, с выделением Фондом Форда гранта на покупку нового помещения для ЦНСИ.
В 2001 г. от Фонда Дж. и К. Макартуров был получен первый в истории ЦНСИ грант на институциональное развитие института (с этого времени Центр получает существенную поддержку со стороны этого фонда). Институциональные гранты позволили Центру существенно обновить необходимую для работы инфраструктуру и сделать ее доступной для еще большего числа людей, дали ЦНСИ возможность расширить географию своей деятельности и внедрить новые формы работы с молодыми учеными, в первую очередь – образовательные.
Новые условия предоставляют возможности для дальнейшего развития Центра, проведения социологических исследований и подготовки нового поколения социологов. В настоящее время в Центре работает около 40 человек» [9].
В настоящее время в Центре работает около 40 человек» [9].
Можно также понять, мечту о какой свободе смог реализовать ученый при таком финансировании. Как сообщает Интернет, он развивает новое направление социальной науки – «качественную социологию». Что это такое, В.М. Воронков поясняет корреспонденту газеты: «Сейчас, к примеру, власть стремится сохранить безусловный идеологический конструкт – победу в Великой Отечественной войне. И там огромное количество фальсификаций. Мы делали интервью в разных деревнях Смоленской и Новгородской областей, которые были оккупированы немцами. Оказывается, к гитлеровцам крестьяне относились лучше, чем к советским воинам. Опрошенные вспоминали, что самыми вредоносными были красные партизаны, которые реквизировали все запасы и требовали, чтоб им помогали» [8]. Да, для получения щедрых грантов от зарубежных фондов важно качество респондентов, а не их численность в населении.
Поражение СССР и последующие изменения всего жизнеустройства страны – это результат действия разных заинтересованных сил и групп, шестидесятники и диссиденты – очень важный, но небольшой элемент этой системы. Нельзя поэтому воспринимать, как это по инерции делают многие, результат перестройки как буржуазную контрреволюцию. Более того, на тропу войны против СССР шестидесятники вышли как восторженные романтики, пылающие коммунистическим энтузиазмом, – они хотели исправить наш «казарменный социализм». Потому-то к ним и потянулась молодежь, особенно студенты.
Нельзя поэтому воспринимать, как это по инерции делают многие, результат перестройки как буржуазную контрреволюцию. Более того, на тропу войны против СССР шестидесятники вышли как восторженные романтики, пылающие коммунистическим энтузиазмом, – они хотели исправить наш «казарменный социализм». Потому-то к ним и потянулась молодежь, особенно студенты.
Надо отметить, прежде всего, поэтичность их протеста. Никакая разумная идея не «овладеет массами», если ее не будут сопровождать поэт и певец (а сейчас еще и клоун). «Семантика убеждает, эстетика соблазняет» (А. Моль). Эту синергическую систему советская власть расщепить не сумела – не имела она общественной науки в строгом смысле слова.
Г.С. Батыгин писал: «Формирование сословия советских интеллектуалов в 1960-е гг. было сопряжено с изменением стилистики публичного дискурса: люди “болели” стихами. В списках распространялись стихи А. Ахматовой, О. Мандельштама, Н. Гумилева, М. Цветаевой, И. Бродского. Знание стихов стало своеобразным паролем для доступа в интеллигентский круг.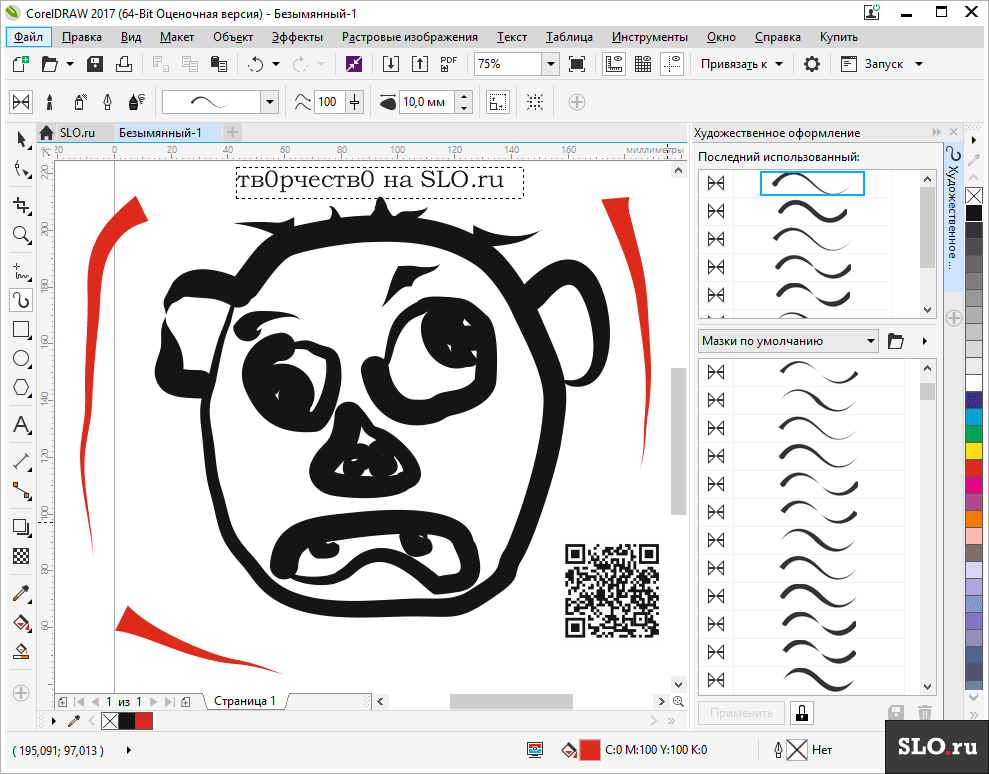 Страсть к стихам породила и первые выступления против власти. 29 июля 1958 г. в Москве был открыт памятник Маяковскому. Поэты читали стихи. Затем возникла спонтанные выступления, и чтения стихов стали происходить регулярно. Участниками встреч были преимущественно студенты. Когда власти попытались воспрепятствовать поэтическим сходкам, возникло сопротивление»[3, с. 56].
Страсть к стихам породила и первые выступления против власти. 29 июля 1958 г. в Москве был открыт памятник Маяковскому. Поэты читали стихи. Затем возникла спонтанные выступления, и чтения стихов стали происходить регулярно. Участниками встреч были преимущественно студенты. Когда власти попытались воспрепятствовать поэтическим сходкам, возникло сопротивление»[3, с. 56].
1. Например, важную роль в подтачивании легитимности СССР сыграли юмористы, начиная с конца 1950-х годов, с А. Райкина. Видный социолог Г.С. Батыгин (1951–2003) писал: «Риторика обновления в значительной степени основана на парадоксе и оксюмороне, легко преодолевавших бинарные оппозиции советской языковой системы, смехе, пародировании прецедентных текстов и рецитаций… Смех и парадокс, внедренные в социальный дискурс, разрушили легитимационные устои советского государственного устройства» [3, с. 41]. Это так, но разрушили, действуя как элемент системы.
2. Здесь приводится много выдержек из работ Г.С. Батыгина (1951–2003). Это был умный человек с научным типом мышления. Он один из немногих социологов занимался изучением когнитивной платформы советского и постсоветского обществоведения. Кроме того, он был вхож в элиту этого сообщества, более того, во время перестройки занял антисоветскую позицию, и его суждения об этой элите нельзя назвать пристрастными. Он сказал в интервью: «Мне исключительно повезло, что я уже не живу при советском режиме, всю отвратительность которого понимаю только сейчас. В биологических терминах его можно назвать рецессивным, т. е. вырождающимся, тупиковым. Если бы советская власть продолжалась до сих пор, моя судьба была бы катастрофической. Я бы никогда не увидел тех возможностей, которые есть сейчас. Я не могу себе представить без ужаса, что творилось. А сейчас есть огромные возможности – это величайшее благо» [30].
Это был умный человек с научным типом мышления. Он один из немногих социологов занимался изучением когнитивной платформы советского и постсоветского обществоведения. Кроме того, он был вхож в элиту этого сообщества, более того, во время перестройки занял антисоветскую позицию, и его суждения об этой элите нельзя назвать пристрастными. Он сказал в интервью: «Мне исключительно повезло, что я уже не живу при советском режиме, всю отвратительность которого понимаю только сейчас. В биологических терминах его можно назвать рецессивным, т. е. вырождающимся, тупиковым. Если бы советская власть продолжалась до сих пор, моя судьба была бы катастрофической. Я бы никогда не увидел тех возможностей, которые есть сейчас. Я не могу себе представить без ужаса, что творилось. А сейчас есть огромные возможности – это величайшее благо» [30].
3. В группе работавших там гуманитариев в сентябре 2010 г. был показан по телевидению на канале «Культура» восьмисерийный фильм «Отдел (шестидесятники)», как сказано, «удивительным образом реконструирующий возрождение свободной философской мысли в советской России конца XX века». Пресса писала о фильме: «Люди, чьи имена делают честь нашей философской культуре, – Александр Зиновьев, Мераб Мамардашвили, Георгий Щедровицкий, Александр Пятигорский, Эвальд Ильенков, Эрих Соловьев, Карл Кантор, Юрий Левада, Борис Грушин предстанут в нем неожиданно крупным планом и в неожиданной полноте образа времени».
Пресса писала о фильме: «Люди, чьи имена делают честь нашей философской культуре, – Александр Зиновьев, Мераб Мамардашвили, Георгий Щедровицкий, Александр Пятигорский, Эвальд Ильенков, Эрих Соловьев, Карл Кантор, Юрий Левада, Борис Грушин предстанут в нем неожиданно крупным планом и в неожиданной полноте образа времени».
4. Интеллектуалы, которых приближали к власти, были людьми в некоторых отношениях отборными. Они были «идеологическим спецназом», а не учеными, ищущими истину. Г.С. Батыгин писал: «Советская интеллигенция в большинстве случаев стремилась в партию, но партия имела основания сторониться экстатического дионисийского начала в интеллигентском дискурсе, вполне резонно предполагая в нем разрушительные тенденции. Оставшаяся от сталинского партийного аппарата дисциплина “ордена” проводила жесткую границу между властью и интеллектуалами, и данное обстоятельство стало одним из механизмов разрушения режима» [3, с. 43].
5. Уже в 1970-е годы интеллектуальная бригада Брежнева была укомплектована шестидесятниками.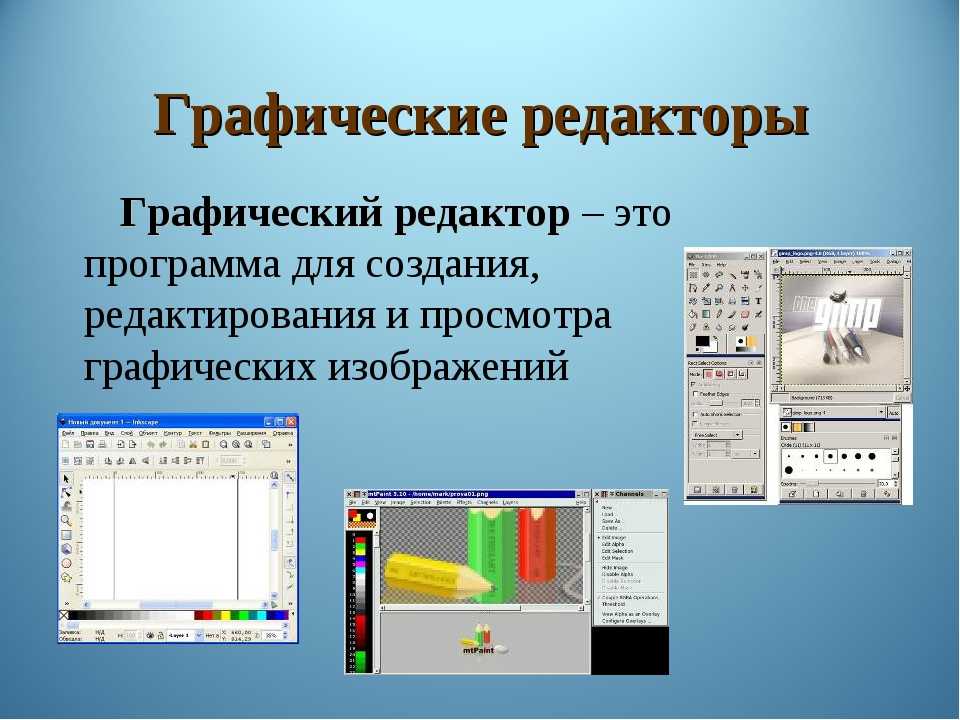 А.Н. Яковлев вспоминает: «Какая-то часть Политбюро (Тихонов, Гришин, Суслов и др.) вела атаку на рабочее окружение Брежнева, авторов его речей (Иноземцева, Арбатова, Бовина, Загладина, Шишлина, Александрова-Агентова, Цуканова и др.), обвиняя их в том, что они “сбивают с толку” Брежнева, протаскивают ревизионистские мысли» [39, с. 377].
А.Н. Яковлев вспоминает: «Какая-то часть Политбюро (Тихонов, Гришин, Суслов и др.) вела атаку на рабочее окружение Брежнева, авторов его речей (Иноземцева, Арбатова, Бовина, Загладина, Шишлина, Александрова-Агентова, Цуканова и др.), обвиняя их в том, что они “сбивают с толку” Брежнева, протаскивают ревизионистские мысли» [39, с. 377].
К добру — вектор добровольчества в России
Стратегическая межрегиональная благотворительная программа «Вектор добровольчества» разработана в рамках реализации одной из четырех базовых долгосрочных благотворительных программ Общества: «Программа поддержки и развития добровольчества в социальной сфере».
Цель программы «Вектор добровольчества»: содействие развитию эффективной добровольческой (волонтерской) деятельности граждан в государственных и негосударственных организациях социальной сферы, посредством информационно-методической поддержки руководителей, сотрудников и добровольцев.
Основные задачи программы:
-
Содействие повышению качества жизни клиентов/подопечных, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее — СО НКО) и государственных учреждений социальной сферы (далее – ГУ), расширению поддержки, спектра и количества социальных услуг этим группам населения.

- Разработка образовательных и обучающих программ, методических пособий, руководств по привлечению и организации труда добровольцев для представителей СО НКО и ГУ социальной сферы.
- Обучение и повышение квалификации специалистов по работе с добровольцами в СО НКО и в государственных учреждениях социальной сферы.
- Предоставление информационно-методической поддержки организациям любой организационно-правовой формы, реализующим благотворительные программы с участием добровольцев.
- Консультирование лиц, ответственных за работу с добровольцами и развитие добровольчества в социальной сфере, являющихся представителями СО НКО, ГУ, государственных органов власти и местного самоуправления.
- Содействие развитию экспертного сообщества специалистов в области добровольчества в СПб и в регионах РФ.
-
Содействие развитию взаимодействия СО НКО, государственных учреждений социальной сферы и образовательных учреждений в области добровольчества.
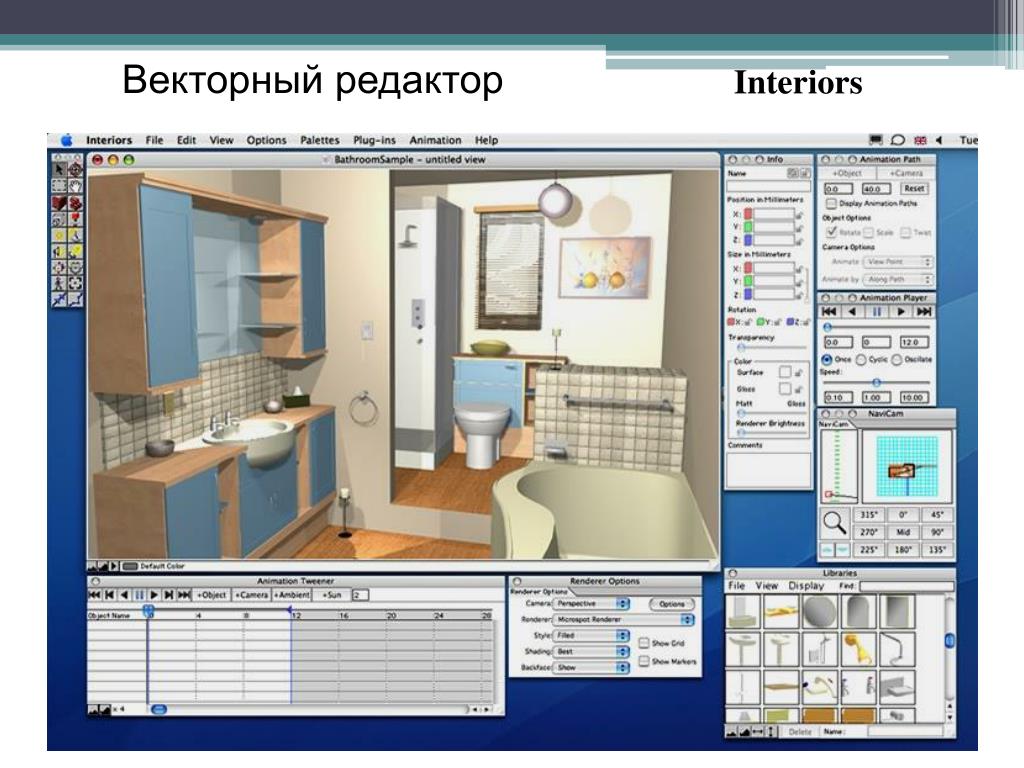
- Содействие привлечению труда добровольцев в СО НКО и государственные учреждения социальной сферы.
- Содействие реализации студенческих добровольческих социальных проектов в СО НКО и ГУ социальной сферы, стимулирование применения социальных инноваций молодежи в социальной сфере.
- Содействие стимулированию и поощрению добровольцев, действующих в социальной сфере.
- Проведение исследований и опросов, составление аналитических материалов по вопросам добровольчества в социальной сфере.
- Вовлечение в процесс развития социального добровольчества научного сообщества и учреждений высшей школы.
- Содействие развитию законодательства в области добровольчества.
В ходе реализации межрегиональной программы «Вектор добровольчества» осуществляется практико-ориентированная информационно-методическая поддержка специалистов — организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, включающая:
- дистанционное обучение и он-лайн консультирование,
- комплексную методическую поддержку специалистов, направленную на:
— апробацию технологий управления добровольческими ресурсами специалистами,
— внедренческую деятельности организаций (СО НКО и государственных учреждений социальной сферы) для развития добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческих социальных услуг различным целевым группам,
-
получение обратной связи от участников Программ по результатам получения поддержки.

Реализовано 7 целевых тематических подпрограмм стратегической межрегиональной благотворительной программы «Вектор добровольчества». Программа в целом и все ее подпрограммы носят информацинно-методический характер, ориентированы на потребности СО НКО и других организаторов добровольческой детельности в Санкт-Петербурге и других регионах РФ.
В основе Программы: дистанционные курсы обучения руководителей, сотрудников и добровольцев СО НКО из регионов РФ по разнообразным вопросам добровольческой деятельности, организации благотворительной и некоммерческой деятельности с участием добровольческих ресурсов.
В течение первых 5 лет дистанционное обучение проводилось на портале Центра дистанционного обучения научного парка МГУ им. М.В. Ломоносова.
В течение последних 9 лет дистанционные курсы обучения проводятся для зарегистрированных пользователей на информационно-методическом портале «Вектор добровольчества в России»
Используемая платформа: Moodle.
За 15 лет общее количество слушателей составило более 2000 чел. из всех регионов РФ и СНГ.
С 2008 по 2011 гг. реализованы проекты и подпрограммы:
«Вектор добровольчества – добровольчество для здорового образа жизни»
«Вектор добровольчества – антикризис»
«Вектор добровольчества – студенческие добровольческие агентства»
С 2012 по 2020 гг.реализованы проекты и подпрограммы:
FastLane — Ускорение ИИ — Институт искусственного интеллекта Vector
Программа FastLane позволяет канадским стартапам ускорить процесс коммерциализации ИИ и более эффективно конкурировать в мировой экономике.
Ускорьте свой путь в области ИИ благодаря доступу к:
- Технологии: Используйте опыт компании Vector в разработке ИИ и управлении проектами в учебных курсах, Ask-Me-Anything, прикладных проектах ИИ
- Повышение квалификации : Развивайте навыки, необходимые для успеха, с ИИ
- Талант : избавьтесь от догадок при поиске лучшего таланта ИИ
- Сравнительный анализ ИИ : узнайте, что вам нужно, и отслеживайте свой прогресс с течением времени
- Коммерциализация и обучение ИС : Улучшите свои стратегии коммерциализации ИИ и ИС
- Сообщество : Знакомство с ведущими венчурными капиталистами, корпорациями и ключевыми заинтересованными сторонами канадского инновационного сообщества ИИ
Познакомьтесь с некоторыми из наших нынешних участников FastLane
«В Canvas AI мы считаем, что ИИ играет ключевую роль, помогая производителям создавать ценность и ускорять нулевые выбросы. Сотрудничая с Vector Institute, мы с нетерпением ждем возможности быть в курсе ведущих методологий и практик ИИ через целевые учебные курсы Vector и работать с ними, чтобы помочь нам найти подходящие таланты ИИ через сильные сети Vector с выпускниками и профессионалами из Онтарио. хорошо развитая экосистема ИИ».
Хумера Малик
Генеральный директор, Canvass AI
Истории о FastLane
Партнерство
Vector и Communitech сотрудничают, чтобы помочь канадским МСП использовать возможности ИИ
Программа
От отсутствия навыков программирования до готовности к работе с ИИ за три дня: знакомство с Vector Excel для ИИ для T-CAIREM
Предвзятость в программе ИИ: демонстрация компаниям способов уменьшения предвзятости и снижения рисков
FastLane часто задаваемые вопросы:
Каковы критерии для участия в программе FastLane?
Чтобы иметь право на участие в программе FastLane, компания должна:
- Быть зарегистрированной и работать в Канаде с технической командой
- Иметь от 1 до 500 сотрудников; соответствие определению малого и среднего предприятия (МСП) в соответствии с инновациями, наукой и экономическим развитием Канады (ISED)
- Если число сотрудников превышает 500, свяжитесь с нами для получения информации о других программах и услугах Института Вектора
- Иметь функциональный минимально жизнеспособный продукт
- Продемонстрировать заинтересованность и приверженность исполнительного руководства в трансформационном воздействии ИИ
Должен ли я иметь штаб-квартиру в Онтарио? / (Нужно ли нам регистрироваться перед подачей заявки?)
Да, ваша компания должна иметь штаб-квартиру в Канаде или основную операционную/техническую команду, расположенную в Канаде. Ваш бизнес или часть вашего бизнеса должны быть зарегистрированы в Канаде.
Ваш бизнес или часть вашего бизнеса должны быть зарегистрированы в Канаде.
Можно ли получать предварительные доходы?
Да. Некоторые предприятия, допущенные к FastLane, не имеют постоянного дохода.
FastLane инвестирует в компании, которые принимает?
Нет, FastLane не является инкубатором или акселератором, мы можем связать вас с нашими партнерами по экосистеме, которые предоставляют инвестиции.
Можно ли использовать преимущества программы дистанционно?
Большинство программ будут проходить в виртуальной среде. Мы четко сообщим, какие мероприятия будут проходить виртуально, гибридно или лично.
Какие преимущества FastLane предоставляет моим сотрудникам?
Вы получите доступ к курсам и семинарам по новейшим инструментам и методам искусственного интеллекта. Мы поддерживаем обучение и повышение квалификации ваших сотрудников в области ИИ.
Могу ли я присоединиться, если я нахожусь в другом акселераторе или инкубаторе?
Да, FastLane активно сотрудничает с партнерами по экосистеме для поддержки их проектов в области ИИ. Мы также расширяем внешние возможности наших партнеров по экосистеме.
Мы также расширяем внешние возможности наших партнеров по экосистеме.
Сколько длится программа?
FastLane — это открытая программа. Мы ежегодно проверяем обязательства участников, чтобы определить постоянный доступ к программе.
Как проходит процесс отбора и чего ожидать после того, как меня примут?
После того, как вы заполните форму заявки, мы рассмотрим ваш файл в соответствии с нашими критериями приемлемости. Мы свяжемся с вами для краткого обсуждения, чтобы определить ваш уровень зрелости ИИ и убедиться, что он подходит для нашей программы.
Если ваша компания будет принята, вы получите подтверждение по электронной почте, которое включает приветственный пакет с подробным описанием наших программ и других возможностей.
Вы будете включены в наш информационный бюллетень, выходящий два раза в месяц, в котором будут освещаться последние сессии, семинары и возможности сотрудничества в рамках программы FastLane. Если у вас есть дополнительные вопросы или пожелания, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Создание, изменение и доступ к векторным элементам
В этой статье вы узнаете о векторах в программировании на R. Вы научитесь создавать их, получать доступ к их элементам с помощью различных методов и изменять их в своей программе.
Вектор — это базовая структура данных в R. Она содержит элементы того же типа. Типы данных могут быть логическими, целочисленными, двойными, символьными, сложными или необработанными.
Тип вектора можно проверить с помощью функции typeof() .
Еще одним важным свойством вектора является его длина. Это количество элементов в векторе, и его можно проверить с помощью функции length() .
Как создать вектор в R?
Векторы обычно создаются с использованием c() функция.
Так как вектор должен иметь элементы одного типа, эта функция попытается привести элементы к одному типу, если они разные.
Приведение от младших к более высоким типам от логического к целому к двойному к символьному.
> х <- с(1, 5, 4, 9, 0) > тип(х) [1] «двойной» > длина (х) [1] 5 > x <- c(1, 5.4, ИСТИНА, "привет") > х [1] «1» «5.4» «ИСТИНА» «привет» > тип(х) [1] "персонаж"
Если мы хотим создать вектор последовательных чисел, очень полезен оператор : .
Пример 1: Создание вектора с помощью: оператора
> х <- 1:7; Икс [1] 1 2 3 4 5 6 7 > у <- 2:-2; у [1] 2 1 0 -1 -2
Более сложные последовательности могут быть созданы с помощью функции seq() , например определения количества точек в интервале или размера шага.
Пример 2. Создание вектора с помощью функции seq()
> seq(1, 3, by=0.2) # указать размер шага [1] 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 > seq(1, 5, length.out=4) # указать длину вектора [1] 1,000000 2,333333 3,666667 5,000000
Как получить доступ к элементам вектора?
Доступ к элементам вектора можно получить с помощью векторной индексации. Вектор, используемый для индексации, может быть логическим, целочисленным или вектором символов.![]()
Использование целочисленного вектора в качестве индекса
Индекс вектора в R начинается с 1, в отличие от большинства языков программирования, где индекс начинается с 0.
Мы можем использовать вектор целых чисел в качестве индекса для доступа к определенным элементам.
Мы также можем использовать отрицательные целые числа, чтобы вернуть все элементы, кроме указанных.
Но мы не можем смешивать положительные и отрицательные целые числа, в то время как индексация и действительные числа, если они используются, усекаются до целых чисел.
> х [1] 0 2 4 6 8 10 > x[3] # доступ к третьему элементу [1] 4 > x[c(2, 4)] # доступ ко 2-му и 4-му элементам [1] 2 6 > x[-1] # доступ ко всем элементам, кроме 1-го [1] 2 4 6 8 10 > x[c(2, -4)] # нельзя смешивать положительные и отрицательные целые числа Ошибка в x[c(2, -4)]: только 0 могут быть смешаны с отрицательными нижними индексами > x[c(2.4, 3.54)] # действительные числа усекаются до целых [1] 2 4
Использование логического вектора в качестве индекса
Когда мы используем логический вектор для индексации, возвращается позиция, где логический вектор равен TRUE .
Эта полезная функция помогает нам фильтровать вектор, как показано ниже.
> х[с(ИСТИНА, ЛОЖЬ, ЛОЖЬ, ИСТИНА)] [1] -3 3 > x[x < 0] # фильтрация векторов по условиям [1] -3 -1 > х [х > 0] [1] 3
В приведенном выше примере выражение x>0 даст логический вектор (ЛОЖЬ, ЛОЖЬ, ЛОЖЬ, ИСТИНА) , который затем используется для индексации.
Использование вектора символов в качестве индекса
Этот тип индексации полезен при работе с именованными векторами. Мы можем назвать каждый элемент вектора.
> x <- c("первый"=3, "второй"=0, "третий"=9)
> имена(х)
[1] "первый" "второй" "третий"
> х["секунда"]
второй
0
> х[с("первый", "третий")]
первая треть
3 9
Как изменить вектор в R?
Мы можем изменить вектор с помощью оператора присваивания.
Мы можем использовать методы, описанные выше, для доступа к определенным элементам и их модификации.
Если мы хотим обрезать элементы, мы можем использовать переназначения.